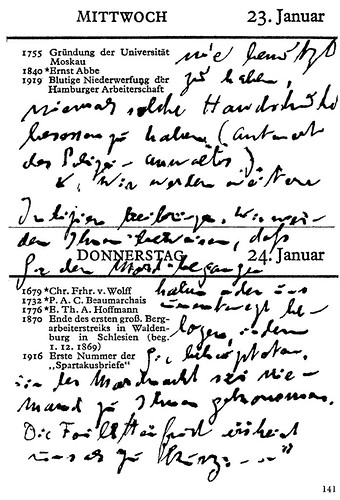
Мов
Старший сын Фалтина, Мов, пошёл в деда. Он решил связать жизнь с морем; учился, тщательно готовился ко всем экзаменам. Был прилежным и очень тихим. Получив патент капитана, он стал командовать небольшим грузовым кораблем, принадлежащем одной маленькой судоходной комании из Хёганеса. Его капитанская форма не была красивой: поншеный синий китель с потершимися нашивками на рукавах и позлоченными пуговицами, на которых были выбиты якоря. В портовых городишках, куда заходил его корабль, он перебранивался с маклерами, грузооправителями, поставщиками. У него бывали тяжелые дни и ночи, когда бушующее море играючи подкидывало баржу, и волны ударяли по ней с такой силой, что от ударов дрожали все шпангноуты. Матросы кричали ему: «Капитан, капитан, сегодня наши дела плохи, сегодня нам конец». Он сидел в низенькой штурманской рубке, выверял курс, прислушивался к словам, к реву ветра, к тяжелым стонам парового котла. Под потолком раскачивалась лампа, старое, вращающееся кресло из красного дерева скрипело под человеком, пытавшимся удержать равновесие. В корабельной аптечке протекла какая-то склянка, и в рубке пахло лекарствами... Таким был его мир. Вот чего он достиг. Об этом он мечтал с самого детства. Это была нелегкая работа. У судовладельца не было поводов для недовольства; но он делал вид, будто недоволен Мовом. На провизию для команды с каждым разом выделялось все меньше денег, фрахтовая ставка постоянно повышалась. Но Мов никогда не жаловался; сам он, вероятно, был доволен выпавшим на его долю жребием.
Матросы, кочегары были намного бедней него, жили в грязных лачугах. Их одежда воняла рыбьим жиром и селедкой. Они были людьми простыми, не то что он; а он любил их как себя самого. Он не был высокомерным. Сидел за тиковым столом с причудливо изогнутыми ножками, с кромкой по краям столешницы, не давашей картам, угломеру и циркулю соскользнуть вниз. Вахтенный о чем-то докладывал. Капитан ему отвечал. У него был корабль. Ничего особенного в этом корабле не было. Однако Мов его любил. Другого он не хотел. Он не был властным и не смог бы управлять большим и красивым кораблем. Он довольствовался тем, что у него было.
Фрау Ларссон могла сообщить о нем немногое. Она, правда, была осведомлена, что у него не было жены, что в году у него едва ли набиралась дюжина выходных дней, и он и не думал растрачивать их на поиски невесты. Вообще-то фрау Ларссон и знать не желала про его отношения с девушками; она, впрочем, была убеждена в том, что девушки его не интересуют.
На самом деле он был совсем нетребовательным, инертным. Завидовал матросам и тому, что они себе позволяли. Завидовал им, восхищался ими. Сам он, если корабль стоял в порту, выходил из каюты только когда нужно было встретиться с маклером, грузоотправителем или поставщиком. Порой он произносил несколько мрачных пессимистических слов. Которые запоминались, ведь они слетали у него с уст совершенно неождиданно: «Вот помучаемся еще с пару десятков лет, каждый по-своему. А потом положат нас в ящик, да закопают». Ему отвечали: «Ну да, так оно и будет». Или: «Думать-то об этом не имеет никакого смысла».
Да он и сам нечасто об этом думал. Лишь иногда – если на море был штиль, и он лежал на своей койке; или когда снаружи, на вечерней набережной, освещенной электрическими фонарями, смолкал шум, и в иллюминатор доносились только голоса пьяных матросов, и с теплым вечерним ветром в каюту доносился запах рыбьего жира, селедки, гнилых фруктов и выдержанного сыра – тогда он думал о том, что скоро, а, может, и не очень, он исчезнет с лица земли, исчезнет, как и появился. Тогда он повторял про себя: «Вот чего я достиг. Вот чего я добился. Это было моей целью. Ради этого я учился. Ради этого трясся на экзаменах от страха. Все мои подростковые страхи остались при мне – чтобы помнил, чего сумел достичь. Я поэтому никогда не стану настоящим мужчиной. Чтобы не забыть, чего добился, чтобы не забывать: я занимаю этот ют, лежу на этой койке, управляю этим кораблем, командую этим экипажем, этими кочегарами и матросами... Видят ли они, что я так и остался подростком? Что никогда не стану буянить, как они. Что пью грог лишь потому, что так положено капитанам?»
И целый час, пока он наконец не заснул, ему казалось, что он счастлив, он чувствовал, что хочет лишь одного: навсегда остаться там, где сейчас, остаться тем, кем он был – незрелым мужчиной и при этом капитаном небольшого грузового судна, нагруженным заботами судовладельца... сталкивающимся с коварством моря и портового люда; всегда живущим с убеждением, что корабль – его убежище. Это место было ему определено. С этой работой он мог справиться. Он знал, как управлять судном, как вести портовые дела таким образом, чтобы все оставались довольны. Он мог обращаться со своей командой то сурово, то мягко – по обстоятельствам. Он ни разу не выдал себя, не выдал, кем он был, никто не знал, что по вечерам, лежа на своей койке, он испытывал странное ощущение – счастье и отчаяние одновременно. «Я не должен жениться, так решил Господь. У меня не будет детей. Так мне суждено. Я это знаю. У моей сестры Ольги будет много детей; а я никогда не стану взрослым. Всегда буду застенчивым. Наверняка девушки не доставят мне удовольствия. Мне перед ними стыдно. Даже проститутку я стесняюсь. Перед самим собой мне не стыдно. Таким сотворил меня Господь: с поселившимся в моем сердце страхом, что я, чего доброго, никогда не повзрослею, не стану даже таким взрослым, как наш кухонный юнга Софус, а ему ведь только исполнилось семнадцать лет! – и радостью, бесконечной радостью в душе, что я смог выдержать все экзамены и стать капитаном. Я ведь почти и забыл, что был юнгой, матросом, маленьким человеком на безвестных кораблях. Теперь я – другой; тот, другой, достиг своей цели, он доволен, здесь он и останется, навсегда тут останется, не испортит себя ни пьянством, ни проститутками, не станет брать на себя ответственность за жену с детьми, он всегда будет подростком – но при этом и капитаном... »
Он не раздумывал о себе, лишь констатировал факты, без сожаления, не желал быть кем-то иным. Он вряд ли знал, что такое самокопание. В самокопании он не нуждался. Лишь иногда он пытался понять, на чем стоит. Он никогда не говорил со всей определенностью: «Вот это я; вот я таков». В крайнем случае допускал: «Так, возможно, обстоят мои дела». И добавлял: «Я никому ничего не должен. Я никого никогда не предавал. Я не полагался ни на чью помощь. Правда – одного себя мало. Поэтому со мной мои страхи. Я порой изменяю себе. Однако у меня есть корабль, моя команда, моя работа, и ни с чем не сравнимое одиночество моей каюты. Разумеется, однажды меня положат в гроб и закопают. И ничего не будет; тогда непонятно, зачем все то, что у меня сейчас есть? Чтобы есть и жить, зарабатывать на жизнь и приность пользу. У каждого человека есть профессия, и у меня она есть».
Его лицо было лицом мореплавателя. Серые глаза, проницательный взгляд. Рука была уверенной; никогда не дрожала. Мов мог бы выпить полдюжины стаканов крепкого пунша – по нему этого никто бы и не заметил. Решения, которые он принимал в делах, были четкими. Его же собственное представление о себе с каждым годом становилось все более неясным. В его жизни происходило все больше событий, которые было невозможно или трудно контролировать. Так было и в ту ночь, которую он запомнил навсегда, которую его совесть хотела бы поскорей забыть, в ночь, когда с Джеймсом Боттерсом случилась беда. В океане их врасплох застиг шторм. Волны заливали корабль. Палуба была скользкой. В кромешной тьме Боттерс переходил с носа на корму. Совершенно неожиданно, наперекор законам качки, опора ушла у него из под ног. Он поскользнулся, упал, бревном покатился к краю борта. В этот момент он закричал. Закричал так громко, что его крик пронзил бурю. В ту же минуту на него, шипя пеной, обрушилась вода. Он и не надеялся, что кто-то его услышит. Он поднялся, ухватился за борт, почувствовал неописуемый леденящий холод в теле.
Перед ним стоял капитан, по крайней мере он слышал его голос. «Что с тобой, Боттерс?» – «Мне кажется здесь крюк...» – сказал матрос, он рукой сделал жест, который капитан все равно не смог бы увидеть в темноте. – «Какой крюк?» – спросил капитан. «Кажется, нужно посмотреть...» Не спрашивая разрешения, матрос обнял капитана за шею и зарыдал. «Ты упал? Ты поранился?» – «Я упал, кажется, я поранился». Его трясло. Поддерживая матроса, капитан Мов Фалтин, помог ему подняться по трапу на верхнюю палубу. Там им повстречался вахтенный. Джеймс Боттерс подтолкнул его свободной рукой. Вахтенный остановился, и Боттерс положил вторую руку ему на шею. Боттерс не шел, его волокли. В каюте капитана он один твердо держался на ногах. Он не упал, хотя пол под ним ходил ходуном. Вахтенный хотел уйти. Он, однако, услышал как Мов Фалтин спросил: «Где ты поранился?» Джеймс Боттерс показал на живот. Капитан зажег небольшую медную лампу и посветил на место, куда показал Боттерс. Они увидели, что брюки были разорваны в поясе, и в разрыве что-то виднелось, похожее на пузырь, серо-розового цвета. Это была не кожа, не плоть и не кровь. Размером с грецкий орех. «Нужно положить его на кровать», – сказал капитан. Джеймс Боттерс сам, шатаясь подошел к кровати, и вахтенный помог ему лечь. Он же снял с Боттерса сапоги. Стянул с него через голову свитер. Потом он услышал голос Мова Фалтина, приказ: «Теперь уходи! Никому не говори о том, что видел! Я справлюсь один». Мов вытолкнул вахтенного из каюты, запер дверь. Осторожно, чтобы лампа не закоптила, выкрутил повыше фитиль. Достал корабельную аптечку. Затем подошел к пострадавшему. Полностью его раздел. Перед ним предстал матрос Джеймс Боттерс, двадцати шести лет от роду, низкорослый, с изувеченными грязными пальцами на ногах, с широким тазом, из-за которого его походка была кривоногой, с белой кожей, c безволосым телом, грубыми руками, в котором не было ничего красивого, обычный человек, каким он явился на свет. И из его тела, из раны, почти бескровной, коричневой по краям, выпирал кусок кишечной петли размером с грецкий орех. От озноба матроса снова начало трясти. Мов Фалтин протянул ему стопку коньяка. «Я должен буду его зашить, – сказал Мов Фалтин про себя, – мне придется проделать эту неприятную работу, а иначе он и двух дней не проживет». Он отыскал вату и хлороформ. Заставил матроса вдохнуть сладковатый пар наркотика. Подождал несколько минут, прочитал в книге, как зашивать рваные раны. Он не знал, насколько глубоким был сон несчастного, был ли тот без сознания или почувствовал, когда Мов приступил к делу. Впрочем, от этого ничего и не зависело. Капитан смочил пористый пузырь, выпиравший из живота, дезинфицирующей жидкостью. В этой же жидкости он обмакнул пальцы. Одним из пальцев запихнул кишку обратно в отверстие в животе.
Потом он безыскусно, но тщательно, аккуратными стежками зашил дыру. Он протыкал кожу и плоть кривой иглой. Он накапал еще хлороформа на кусок ваты, закрывавший лицо матроса. Стал разглядывать свою работу. Нет, он разглядывал работу Творца, разглядывал человека, которому не повезло, который будет жить или умрет. И это созерцание доставляло ему такое безмерное счастье, такое неземное удовольствие, что он не мог оторваться. Вопреки всякому здравому смыслу, он капнул еще маслянистого хлороформа на лицо матроса. Затем встал у кровати на колени и принялся молиться. Он молил бога о том, чтобы этот человек поправился, чтобы его плохой, непрофессиональной помощи хватило для сохранения заурядной жизнь матроса. Он, не понимавший толка в молитвах, никогда не молившийся, полчаса простоял на коленях у кровати, шепча незаконченные мысли и заклинания, беспокоил того, кого не знал, пытался заставить его вмешаться в ход событий. Так подросток молит о выздоровлении товарища. Захлебываясь от слез, с безграничным страхом в сердце, ликуя от плотского чувства, которое было для него новым.
Наконец он поднялся с колен, почти одурманенный собственным бормотанием, карабельной качкой, парами хлороформа. Протер эфиром рану, похожую на крепко сжатый рот, заклеил пластырем, поплотней укутал больного одеялом, убрал с лица кусок ваты. Потом отпер дверь, вышел в ночь, наощупь пробрался к капитанскому мостику. Уставился через перила на нос корабля, на который наскакивали черные волны с мерцавшими серым гребнями, и внезапно понял, что с ним произошло. Он снова увидел перед собой Джейма Боттерса, там внизу, во тьме – белый силуэт – человека, из живота которого вылезал кусочек кишки. Боттерса, давшего погрузить себя в наркоз, может, полунаркоз, оказавшегося во власти Фалтина. И Фалтин знал: он разглядывал матроса так, как если бы любил его... Он не забыл той ночи, но постарался утаить от самого себя истинный смысл случившегося. Боттерс шел на поправку. Несколько недель рана гноилась; а потом затянулась, не оставив на животе никаких следов. Через два дня корабль прибыл в порт, капитан настаивал на том, чтобы Боттерс пошел в больницу. Но матрос отказался. Он все еще лежал на кровати капитана, питался жидким овсяным супом. Он не хотел уходить с судна. Капитан неожиданно легко уступил желанию больного. Боттерс оставался в его кровати, Мов Фалтин еще три недели спал на диване. Он заботливо ухаживал за больным, каждый день омывал ему ноги, руки и лицо, тщательно следил за раной, промывал ее, менял пластырь. Он кормил матроса скудной едой, наблюдал за его стулом. Часами молча сидел у постели выздоравливающего, руки которого постепенно становились такими же белыми, как и все тело. А затем прежний порядок был восстановлен. Джеймс Боттерс вернулся в каюту матросов.
«Я выполнил свой долг», – сказал себе Мов Фалтин, когда эти, такие волнительные для него недели прошли. Он и потом иногда открывал пузырек с хлороформом, вдыхал сладковатые пары, предавался грезе, которой не мог дать названия. «Я навечно останусь здесь. Нигде мне не спится так хорошо, как на моей койке. У меня нет иной родины. Я не хочу в порт». Он никому не доставлял ни горя, ни радости.
[1941?]
© Перевод А. Маркин 2009